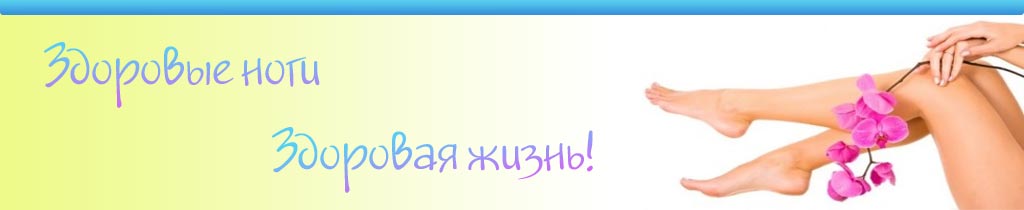Зал здоровья в городской библиотеке | Новости Тайшета
Зал здоровья в городской библиотеке | Новости Тайшета — БезФормата
«Ангарской лиры дивное звучание» — поэтический фестиваль прошёл накануне во дворце ветеранов «Победа».
Телекомпания Актис В Иркутской области завершился региональный этап фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна».
БГУ С заявлением о хищении «Хендай Солярис» в дежурную часть полиции обратился водитель службы такси.
АИСТ ТВ В южных, центральных, западных и частично Верхнеленских районах Иркутской области с 8.00 30 апреля и до 20.00 15 июня введут особый противопожарный режим (ОПР).
Газета Шелеховский вестник По данным оперативного штаба на утро пятницы, 22апреля, в Приангарье за сутки подтвердилось 145 новых случаев COVID-19, 5 пациентов скончались от коронавирусной инфекции.
Weacom.Ru В Иркутской области с начала сезона активности клещей в лечебно-профилактические учреждения обратились 249 пострадавших от укусов клещей, в том числе 84 ребёнка.
Киренский район Никто не застрахован от непредвиденных событий в своей жизни. Это могут быть конфликты, неприятные новости, стрессовые ситуации.
Библиотеки Саянска «Встреча за чашкой чая» 20 апреля в Краеведческом отделе Историко-Художественного музея имени академика М.К.
Нижнеилимский район Юбилей театра «Зеркало» 21 апреля в РДК «Горняк» состоялся праздничный вечер, посвященный 30-летию Народного молодежного театра «Зеркало», основателем и бессменным руководителем которого является Бушуева Ирина Борисовна.
©2022 BezFormata.Com.
Исцеление от здоровья в современных медийных практиках и гуманитарных исследованиях — Журнальный зал
Документ без названия
Собранные здесь статьи объединяет интерес к тому, как «болезненное» может быть не только объектом репрезентации (и тем самым удерживаться на расстоянии), но и тем, что наделяется телом и голосом в художественных практиках или научном исследовании, становится инструментом смыслопорождения, порой не скрывающим свое бессилие. В научном исследовании это оказывается особенно непросто, так как противоречит базовым установкам на позитивность: обеспечивать приращение знания, критическое улучшение существующих теорий и в этом смысле — исполнение исследователем своей гражданской функции. Если уж что-то стало объектом исследования, то никуда ему не деться, как ни сопротивляйся. Хотя деконструктивисты и писали в свое время о ценности саморазрушающихся проектов, больного языка, утрат и могильных пустот[1], это все оказалось гораздо легче трансформируемым в позитивные исследовательские методики[2], нежели удерживаемым в своей негативности.
Здесь, следовательно, пойдет речь не о болезнях и травмах, изучаемых с позиции Фуко или Портера, а о самом исследовании как предприятии болезни: «об обращении к зрителю на языке болезненного опыта» и о «трансляции травмы», как об этом пишет Лутц Кёпник, об «эпистемологии травмы» у Андреаса Лангеноля, об истории, написанной с позиции больного и заразного тела, у Евгения Савицкого. Предметом разговора будут видеоарт и его способность производить эффекты болезненного; украинские и российские гендерные исследования, которые могут быть описаны не только как позитивный опыт рецепции западных подходов, но и как болезненные восполнения, доставляющие беспокойство протезы, вызывающие отторжение объекты, — «блевать тендером», как сказала бы одобрительно Юлия Кристева; речь также пойдет об экологической истории[3], раздвоенной между биополитическим заданием защищать общество[4] и желанием свидетельствовать от имени «нечеловеческого» (нужно ли защищать права животных лишь в той мере, в какой это не создает неудобств для людей, или даже в том случае, когда становится для людей опасно?). Почему стоит обо всем этом говорить?
Тут нужно упомянуть о контекстах, с которыми соотносятся и к которым отсылают публикуемые статьи. Их довольно много, и назовем лишь несколько. Так, для понимания текста Лутца Кёпника важен, среди прочего, контекст дискуссий о способах репрезентации Холокоста. В какой мере использование хорошего, здорового, ясного языка науки или литературы само по себе уже уничтожает травматичность события, рационализируя его и наделяя смыслом? Способна ли наука, привыкшая работать с тем, что сохранилось и наличествует, говорить о лагерном доходяге («мусульманине» в Освенциме)? Как передать это молчание, не превратив его в «новые источники по истории 1940-х годов», во что-то неизбежно позитивное вроде «благодаря Окончательному решению мы научились работать с новым типом эго-документов» и т.п.?[5] Вот почему Кёпник ставит вопрос о разрушительном и болезненном в видеоарте на медиальном уровне. Здесь стоит обратить внимание и на другой важный контекст: на понимание истории как перформативной, как активно вмешивающейся в наше настоящее, способной нас затрагивать, опять же, не обязательно нам на пользу и с нашего согласия. Тут нельзя забывать о работах по истории памяти еще 1970-х годов (Мишеля де Серто и его последователей), которые потом часто прочитывались как исследования просто
Здесь можно вспомнить и о постколониальных исследованиях, точнее, об индийских «исследованиях угнетенных» («subaltern studies»), где, начиная уже с работ Ранаджита Гухи 1960-х годов о формах крестьянской протестной активности, указывалось на проблематичность описания и объяснения насилия через что-то иное, чем оно само, например экономические причины, манипуляции со стороны политических элит, религиозные представления и пр. Для Гухи важно было показать, в какой мере акты насилия представляют собой разрыв с теми внешними причинами, которые их якобы вызывают, а также насколько насилие не соотносимо с теми формами дискурсов, которые их пытаются репрезентировать, включая дискурс самого историка. Событие, по мнению Гухи, существует скорее в складках, в смещениях этих дискурсов — не как нечто позитивно констатируемое, а как смутная угроза, разрушающая текст изнутри, вводящая туда игру амбивалентностей[7]. И, следовательно, задача исследователя — не в том, чтобы справиться с этими неясностями, докопавшись до того, как оно было «на самом деле», а в том, чтобы ретранслировать эти эффекты сопротивления, сделав собственный текст местом их угрожающей избыточности[8].
Текст Андреаса Лангеноля можно сравнить с опубликованной в «НЛО» № 75 статьей Ханса Ульриха Гумбрехта об «эдиповой герменевтике». В статье Гумбрехта важна не столько фактическая сторона, сколько сама идея о том, что возможно описать научную динамику как сугубо негативную: новое направление, которое возникает из бессмысленного протеста, просто из желания быть другим, а не из какого-то позитивного альтернативного проекта. Подобным образом в те же годы описывалось возникновение и других научных направлений, «нового историзма» или «нового медиевализма»[9]. История науки может быть движима не только диалогом ученых, их способностью прислушиваться друг к другу, но и злобой, ненавистью, отторжением. Было бы интересно написать историю доминирующих эмоций в науке второй половины ХХ века. По-видимому, она начиналась бы с образов бесстрастных ученых, для которых их занятия оправдываются высоким социальным значением науки. Затем появляются «шестидесятники», которые не стесняются говорить о том, что занимаются исследованиями просто потому, что им это нравится: здесь желание и удовольствие выступают аргументами, которые могут никак дальше не обосновываться, они не нуждаются в легитимации, а сами способны оправдывать самые странные научные интересы[10]. «Мне это просто нравится», — с особым настроением произносилось и в России в 1990-е. В то же время еще с конца 1980-х годов все больше возникает вопрос: а почему, собственно, той эмоцией, которая легитимирует научные занятия, может быть только удовольствие? Как насчет страданий, боли, гнева? Как насчет речи, преисполненной ненависти?[11] Тут, как и во многих других случаях, возникал вопрос, с позиции кого мы говорим: уравновешенного взрослого белого мужчины, не подверженного истерии, или возможны другие субъективные позиции, в том числе такие, что связаны с утратой субъективности, ее разрушением?[12]
В связи с этим надо упомянуть и о «disability studies», название которых так трудно перевести на русский и которые прямо ставят вопрос о речи с позиции больного тела, с позиции болезни, — в статье Евгения Савицкого эти исследования противопоставляются заботе о силе и здоровье тела в экологической истории. Вслед за Сими Линтон, Моше Барашем, Николасом Мирзоефф и другими исследователями автор этой статьи полагает, что опасность текстов (но не в плане их силы, а скорее бессилия), способность этих текстов исцелять от здоровья может быть важным обстоятельством в поиске стратегий их прочтения.
[1] Ср.: «Конечно, чаще всего привычный опыт того, что мы видим, дает повод к некоему иметь: видя нечто, мы обычно испытываем впечатление, будто приобретаем нечто. Но модальность зримого становится неотменимой — то есть обреченной на вопрос о бытии, — когда видеть означает чувствовать, что нечто неотменимо ускользает от нас; иными словами, когда видеть означает терять. Вот в чем все дело» (Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас / Пер. с франц. А. Шестакова. СПб., 2001. С. 13).
[2] Академические исследования на темы вроде «Топография молчания в средневековом романе» (Snyder M. Topographie des Schweigens: Untersuchungen zum deutschen hofischen Roman um 1200. Gottingen, 2003) или «Язык молчания: Немецкая литература и Холокост» (Schlant E., Fliessbach H. Die Sprache des Schweigens: Die deutsche Literatur und der Holocaust. Munchen, 2001). Это часто смыкается с интересом к молчанию в массовой литературе, в романах вроде «Молчания счастья» Николаса Спаркса или «Ночного молчания» Норы Робертс, вплоть до (псевдо)автобиогра- фического «Лета молчания: Как я была предоставлена насилию трех мужчин, а вся деревня за этим наблюдала» (Scarfo A.M. Sommer des Schweigens: Ich war in der Gewalt dreier Manner. Und ein ganzes Dorf sah zu. Koln, 2012), где молчание делает особенно непристойно-сладостной радость обладания.
[3] См. о ней: Александров Д., Брюггемайер Ф.-Й, Лайус Ю. Экологическая история // Человек и природа: Экологическая история / Под ред. Д.А. Александрова, Ф.-Й. Брюггемайера, Ю. Лайус. СПб., 2008. С. 8—22; МакНилл Дж.Р. О природе и структуре экологической истории // Там же. С. 23—83.
[4] Фуко М. «Нужно защищать общество». СПб., 2005; Он же. Безопасность, территория, население. СПб., 2011.
[5] В историографии эго-документами называют свидетельства от первого лица, позволяющие писать историю «снизу», с позиции отдельных простых людей, а не представлять прошлое лишь как взаимодействие надличностных сил: экономических структур, демографических циклов, геополитических процессов и т.п. См., в частности: Agulhon M, Chaunu P., Duby G. et autres. Essais d’ego-histoire / Ed. par P. Nora. Paris, 1987; Schulze W. Ego-Dokumente: Annaherung an den Menschen in der Geschichte. Berlin, 1996; Zeugen des Untergangs: Ego-Dokumente zur Geschichte des Ersten Welt- krieges im Osterreichischen Staatsarchiv / Hg. von M. Krenn und M. Hochedlinger. Wien, 2013.
[6] Ср. из более современных авторов: Латур Б. Когда вещи дают отпор: Возможный вклад «исследований науки» в общественные науки // Социология вещей / Под ред. В. Вах- штайна. М., 2006. С. 342—364; Latour B. L’espoir de Pandore: Pour une version realiste de l’activite scientifique. Paris, 2001.
[7] См.: Prakash G. Subaltern Studies as Postcolonial Criticism // American Historical Review. 1994. Vol. 99. № 5. P. 1475— 1490.
[8] В особенности тексты Хоми Бабы известны своими травмирующими читателя эффектами.
[9] Ср.: «Мы никогда не формулировали набора теоретических положений или артикулированной программы <…>. Понятие аутентичности представлялось и продолжает представляться нам непригодным по отношению к новому историзму» (Gallagher C, Greenblatt S. Practicing New Historicism. London; Chicago, 2000. P. 1). Примечательно, что тогда же в дискуссиях о новом историзме на страницах «НЛО» он представлялся главным образом как новая позитивная методология, позволяющая изучать историчность текстов и текстуальность истории, вернуться к понятию субъекта и даже к культурным универсалиям. Эксплицитные в переведенных текстах отсылки к конститутивной пустоте в духе Жака Лакана остались незамеченными, и это оказалось фатальным для российской (несостоявшейся) рецепции этого направления. О новом медиевализме как «раззнакомлении» с прошлым и более ранней историографией (включая филологическую) см.: Спигел Г., Фридман П. Иное Средневековье в новейшей американской медиевистике // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. М., 2000. Вып. 3. С. 125—164. Понятие «медиевализм», сродни «ориентализму» у Саида, сменило в языке американских исследователей понятие «медиевистика» как уравнивающее научные и ненаучные репрезентации прошлого: научность не освобождает от необходимости продумывать политические импликации знания.
[10] См., например, о значении удовольствия для обновления исследовательских практик историков: L’orge historien: Autour de Jaques le Goff / Ed. J. Revel et J.-Cl. Schmitt. Paris, 1998; Davis N.Z. Historien tout feu tout flamme: Entretiens avec D. Crouzet. Paris, 2004; Bloch R.H. «Mieux vaut jamais que tard»: Romance, Philology, and Old French Letters // Representations. 1991. № 36. P. 64—86. Желание при этом перетолковывалось из негативного переживания, связанного с нехваткой (например, как у Кожева в 1930-е годы), в исконную полноту подлинных стремлений, их освобождение.
[11] См. подробнее: Butler J. Excitable Speech: A Politics of the Performative. New York; London, 1997.
[12] Ср.: Кристева Ю. Черное солнце: Депрессия и меланхолия. М., 2010; Спивак Г.Ч. Могут ли угнетенные говорить? // Введение в гендерные исследования: Хрестоматия. Харьков, 2001. Ч. 2. С. 649—670. При этом, если соглашаться с Фуко, подлинно негативным процессом оказывается как раз дисциплинарное воспитание субъективности, способности ручаться за себя, а вовсе не ее утрата. В более недавнее время спор насчет разрушения / возведения субъективности разворачивался между Жаком Рансьером и Аленом Бадью.
5 самых опасных ошибок при самостоятельных тренировках в зале — Статьи
27 июня 2018Движение — это жизнь, бесспорная истина. Двигательная активность, это биологическая функция организма, которая поддерживает жизненный тонус всех органов. Соответственно, при правильном подходе к физическим нагрузкам повышается общая работоспособность и возможность адаптации к меняющимся условиям жизни.
Чтобы не нанести существенный вред своему здоровью при использовании той или иной физической нагрузки, необходимо помнить и не допускать следующих ошибок:
⠀⠀- При плохом самочувствии воздержитесь от физических нагрузок, всегда прислушивайтесь к себе.
- Не забывайте про правильный технический подход к упражнениям, обращайтесь за помощью к специалисту, если возникают вопросы. Это сэкономит ваше время и убережет от травм.
- Плавное увеличение нагрузок! Важны дозированная двигательная активность и постепенное наращивание темпа и нагрузки. Дайте вашему телу адаптироваться.
- Исключите резкие и рывковые движения.
- Недопустимы в занятиях дискомфорт и болевые ощущения. Ни в коем случае не занимайтесь, превозмогая боль в теле.
Придерживайтесь этих правил, чтобы чувствовать себя уверенно при выполнении упражнений дома или в оздоровительном центре, которые и безопасны, и эффективны, а также будут приносить вам удовольствие. Мы рады будем вам помочь и подобрать индивидуальный курс упражнений.
Записаться на бесплатное пробное занятие по ЛФК можно по телефону: ☎ +7 (812) 701-03-03, а также на сайте через форму онлайн-чата.
Оценить статью:
| 3.44 из 5 (на основании 2 отзывов) |
Возврат к списку
третье бессознательное» – Центральный выставочный зал «Манеж»
Центральный выставочный зал «Манеж» продолжает серию дискуссий в рамках международной онлайн-платформы NEW NOW.
NEW NOW — это площадка для диалога, генерации новых смыслов, переосмысления нашего отношения к себе в меняющемся мире. Программа откликается на самые яркие идейные преобразования и вызовы современности, тем самым помогая формировать наше общее будущее.
14 октября состоялась вторая дискуссия — «Ментальное здоровье: третье бессознательное». Спикеры — Франко «Бифо» Берарди и Хави Карел, модератор — Александр Вилейкис.
Запись дискусии вы можете найти на нашем YouTube-канале.
На встрече мы поговорили о «новой нормальности»: где пролегает грань между «нормой» и аномальными психологическими состояниями: выгоранием, депрессией, суицидальным поведением, разнообразными практиками исключения себя из общества?
Писатель, теоретик и исследователь культуры Франко «Бифо» Берарди представил анализ перемен, влияющих на социальное (третье) бессознательное, с точки зрения эпохи вирусной пандемии и коллапса капитализма. «Глядя в будущее, мы отчетливо видим то, что трудно игнорировать или отрицать, — хаос, истощение и угасание. Бессознательное не имеет истории. Несмотря на это, мы можем описать эволюцию психосферы от периода первой промышленной революции, который анализирует Зигмунд Фрейд в своей теории невроза и регрессии, до неолиберального периода цифрового ускорения, которому посвящена книга Мишеля Фуко «Рождение биополитики».
Профессор философии Бристольского университета Хави Карел, автор монографии «Феноменология болезни» (2016) поставила акцент на опыте экзистенциального проживания болезни и связанного с ним нестандартного ощущения себя в мире.
Насколько адекватно говорить о возможности психологической нормы в 2021 году? И какие перемены происходят в наше время социального дистанцирования?
Дополнительные материалы для самостоятельного погружения в тему дискуссии доступны по ссылке.
О СПИКЕРАХ:
Франко «Бифо» Берарди — современный писатель, теоретик и медиа-активист.
Основал журнал A/traverso (1975–1981) и работал на Radio Alice, первой свободной пиратской радиостанции в Италии (1976–1978). Подобно другим интеллектуалам того времени, принимавшим участие в итальянском политическом движении «Автономия» в 1970-х годах, сбежал в Париж, где вместе с Феликсом Гваттари занимался теорией шизоанализа.
Сотрудничал с журналами Semiotexte (Нью-Йорк), Chimères (Париж), Metropoli (Рим), Musica 80 (Милан) и Archipiélago (Барселона). Автор книги «Восстание» (The Uprising, Semiotexte, Los Angeles, 2012), переведенной и изданной в Норвегии, Германии, Корее, Японии, Турции, Италии, Аргентине, Мексике и Испании.
В 2015 году опубликовал книгу «Новые герои. Массовые убийцы и самоубийцы» (Heroes. Mass Murder and Suicide, Verso Futures, London), которая была издана в Германии, Франции, Японии, Корее, Китае, Тайване, Турции, Испании, Нидерландах и России. Автор диссертации «Феноменология конца» (Phenomenology of the End, Semiotexte, Los Angeles).
Хави Карел — профессор философии Бристольского университета. Недавно она получила стипендию старшего исследователя научного фонда Wellcome Trust за проект «Жизнь дыхания» (Life of Breath). В 2018 году за эту работу ей была присуждена поощрительная премия в области гуманитарных наук и здравоохранения.
В 2016 году издательство Oxford University Press опубликовало третью монографию Карел «Феноменология болезни» (Phenomenology of Illness). В 2016 году она получила звание лучшего преподавателя Бристольского университета.
Карел — автор книги «Болезнь» (Illness, 2008, 2013, 2018), вошедшей в короткий список книжной премии фонда Wellcome Trust, а также книги «Жизнь и смерть по Фрейду и Хайдеггеру» (Life and Death in Freud and Heidegger, 2006). Она является соредактором книг «Здоровье, болезнь и заболевание» (Health, Illness and Disease, 2012), «Новый взгляд на философию фильма» (New Takes in Film-Philosophy, 2010) и «Что такое философия» (What Philosophy Is, 2004).
Модератор встречи — Александр Вилейкис. Философ, исследователь в области социальных наук, сотрудник Тюменского государственного университета, приглашенный эксперт в Synopsis.group, куратор площадки «Образование» Общероссийского гражданского форума.
Автор программы NEW NOW — Анна Кирикова (Манеж).
Мероприятие проводится в рамках международной программы UK — Russia Creative Bridge 2021-2022 при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве.
Зал Здоровья | Здоровье и благополучие хаски
Важная информация о доступе к медицинской помощи во время вспышки коронавируса
В качестве основной службы UW Hall Health остается открытым во время текущей вспышки. Просим Вас принять следующие меры:
- Новые пациенты должны всегда звонить по номеру 206.685.1011, прежде чем обращаться в Hall Health за медицинской или психиатрической помощью. Вернувшиеся пациенты могут иметь возможность записаться через eCare в зависимости от типа необходимой помощи.Мы можем порекомендовать запланировать видеопосещение с использованием защищенной платформы.
- Всегда надевайте маску при посещении нашей клиники. Маска не должна иметь вентиляционного или выдыхательного клапана, потому что эти отверстия не предотвращают распространение COVID среди других. Если вы приедете с маской с вентиляционным отверстием или клапаном, вас попросят надеть хирургическую маску.
- Если у вас есть симптомы, назначьте другого человека, у которого нет симптомов, чтобы он забрал ваши лекарства в аптеке Hall Health
Узнайте больше о том, какие услуги доступны в кампусе и как получить обслуживание.
Наши услуги
Hall Health предлагает широкий спектр медицинских услуг лично, виртуально и по телефону. Все, кроме аптечных услуг, только по предварительной записи:
Страховка и стоимость
Некоторые услуги Hall Health, но не все, предоставляются учащимся по предоплате за услуги и мероприятия UW. Hall Health выставляет счета медицинской страховке за медицинскую и психиатрическую помощь, и могут быть наличные расходы в зависимости от ваших пособий по медицинскому страхованию и сети.Узнайте больше о медицинском страховании и стоимости или свяжитесь с нашим отделом выставления счетов, чтобы оплатить счет.
Маршруты и парковка
Hall Health расположен в центре кампуса UW в Сиэтле, напротив HUB. Узнайте, как добраться сюда.
Права и обязанности пациента
Как пациент программы Hall Health, вы имеете право на качественную заботливую помощь. У вас также есть обязанности, в том числе предоставление уведомления не менее чем за 1 рабочий день, если вам нужно отменить или перенести встречу.Если вы не свяжетесь с нами, чтобы отменить или перенести встречу, с вас может взиматься плата за неявку в размере 40 долларов США. Узнайте больше о своих правах и обязанностях в качестве пациента Hall Health.
Свяжитесь с нами
Общие вопросы
По общим вопросам звоните по телефону 206.685.1011 или пишите по адресу [email protected] Мы не можем назначать встречи, обрабатывать запросы на записи или предоставлять медицинские консультации по электронной почте .
Чтобы записаться на прием в качестве нового пациента, позвоните по номеру 206.685.1011. Постоянные пациенты могут назначать встречи, получать доступ к платежной информации и переписываться со своими поставщиками через myChart.
Обратная связь
Мы стремимся оказывать всем нашим пациентам превосходную заботливую помощь. Мы также хотим учиться на наших успехах и ошибках. Пожалуйста, найдите минутку, чтобы оставить отзыв о своем опыте в Hall Health, заполнив Форму обратной связи Hall Health Center. Опрос анонимный, если вы не хотите, чтобы мы связались с вами.
Запросы на интервью и СМИ
Посетите раздел Интервью, презентации и информационно-разъяснительная работа , чтобы узнать о запросах на интервью.
Профиль врача | UC Здоровье
Брайан Холл, DPM, по образованию хирург стопы и голеностопного сустава. Он вырос в Месе, штат Аризона, и поступил в Университет штата Аризона на бакалавриат, где решил продолжить карьеру в области ортопедической медицины и хирургии.
После получения степени бакалавра в Университете штата Аризона он поступил в медицинский институт Университета Де-Мойна в Айове.Он получил высшее образование в 2010 году и услышал, что в Университете Цинциннати начинается новая ординатура по подиатрической хирургии на кафедре хирургии, и он решил стать первым резидентом в области подиатрии в Медицинском центре Университета Цинциннати.
Во время своей ординатуры в Медицинском центре Университета Цинциннати он усердно работал над тем, чтобы обучать и информировать всех, с кем он контактировал, о преимуществах, которые ортопедические хирурги имеют в системе здравоохранения.Он продолжает информировать всех о том, что сегодняшние ортопедические хирурги обучены всем аспектам хирургии стопы и голеностопного сустава, от травм, спасения конечностей, спортивной медицины и реконструктивной хирургии стопы и голеностопного сустава до основ ухода за ранами, боли в нижних конечностях и лечения диабетической стопы. забота.
После завершения трехлетней ординатуры он стал первым выпускником программы ординатуры по подиатрической медицине и хирургии/реконструктивной хирургии заднего отдела стопы и голеностопного сустава в Медицинском центре Университета Цинциннати.Он решил стать первым полноценным факультетом ортопедической хирургии при кафедре хирургии вместе с еще одним врачом. Он работает как в Медицинском центре Университета Цинциннати, так и в больнице Вест-Честер, и постоянно посещает здесь программу резидентуры.
В настоящее время он является научным сотрудником Американского колледжа хирургов стопы и голеностопного сустава (FACFAS) и имеет сертификат Совета директоров по хирургии стопы и реконструктивной хирургии заднего отдела стопы и голеностопного сустава.
-
West Chester
-
West Chester
-
UC Health Physicians Office North North (West Chester)
7690 Discovery Drive
Suite 2300
West Chester, Ohio 45069
Телефон: 513-558-3668 (ногой)
Карта и направления
-
-
Клифтон
-
-
UC Health Physicians Office (Клифтон — Piedmont)
222 Piedmont Avenue
Suite 7000
Cincinnati, Ohio 45219
Телефон: (513) 558-3668
Карта и направления
-
-
Флоренция
-
UC Health Podiatry (Флоренция)
68 Cavalier Boulevard
Florence, Kentucky 41042
Телефон: (513) 558-3668
Карта и направления
-
Медицинская школа
- Университет Де-Мойна — Де-Мойн, Айова (Подиатрическая медицина и хирургия)
Резидентура
- Медицинский центр Университета Цинциннати — Цинциннати, Огайо (Подиатрическая медицина и хирургия/Реконструктивная хирургия заднего отдела стопы и хирургия голеностопного сустава)
Высшее образование
- Государственный университет Аризоны — Феникс, Аризона (бакалавр наук)
Сертификаты Совета
Сертификат Совета по хирургии стопы и реконструктивной хирургии Хирургия заднего отдела стопы и голеностопного сустава
Семейная клиника Baptist Health — Белый зал
О семейной клинике Baptist Health — Белый зал
Семейная клиника Baptist Health в Уайт-Холле — это первоклассное учреждение, призванное оказывать ориентированную на пациента и всестороннюю личную помощь семьям Уайт-Холла и прилегающих районов.
В Baptist Health Family Clinic-White Hall мы используем инновационные методы для квалифицированной диагностики и лечения вашего состояния, облегчения симптомов и улучшения качества вашей жизни. Если вам требуются плановые осмотры, иммунизация или помощь в лечении острых или хронических заболеваний, наши специалисты готовы ответить на ваши вопросы и предоставить варианты ухода, которые подходят именно вам.
В дополнение к нашим предложениям услуг наша совместная команда поставщиков медицинских услуг, координаторов по уходу, специалистов по аллергии и фармацевтов позаботится о том, чтобы каждый аспект вашего визита прошел гладко и эффективно.
Мы рады, что вы здесь, и мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать вам нашу приверженность семейной клинике Baptist Health в Белом зале.
Информация для пациентов
Baptist Health Family Clinic-White Hall приветствует вас в нашей практике. После того, как вы записались на первичную встречу, пожалуйста, прочитайте информацию ниже, чтобы упростить ваш первый визит к нам.
Если вы являетесь постоянным пациентом, вы можете войти на наш портал для пациентов MyChart, чтобы назначить встречу, запросить встречу или отменить предстоящий визит к своему лечащему врачу.Перед запланированным визитом к своему провайдеру вы можете использовать eCheck-In, чтобы обновить информацию о страховке, лекарствах, аллергии, заполнить анкеты и подписать документы.
Что я могу ожидать при первом посещении?
Наш офис удобно расположен в самом центре Уайт-холла, рядом с почтовым отделением и через дорогу от пиццерии Ларри.
По прибытии вас встретит координатор клиники. Они помогут убедиться, что вы заполнили все необходимые формы пациента и что у нас есть необходимые копии вашей страховой карты и водительских прав для проверки.Как только ваша страховка будет подтверждена, координатор клиники заберет ее в это время, если есть доплата.
Первый визит к поставщику обычно длится дольше. Мы используем эту встречу, чтобы просмотреть вашу историю болезни и узнать, как лучше всего помочь вам с вашим медицинским обслуживанием.
Что взять с собой?
Когда вы впервые приедете в наш офис, пожалуйста, зарегистрируйтесь на стойке регистрации и возьмите с собой следующие предметы:
- Новая форма информации о пациенте
- Страховая карта
- Водительские права или удостоверение личности с фотографией
- Список лекарств, которые вы принимаете в настоящее время
- Недавние лабораторные исследования (за последний год)
- Визуализация (последние отчеты: колоноскопия, маммография, рентген грудной клетки и т. д.)
- Список всех провайдеров, которых вы видели за последние пять лет
- Нам нужны имена и номера телефонов специалистов, чтобы мы могли запросить записи.
Направления
С межштатной автомагистрали 530 S: Двигайтесь на юг по I-530 S. Сверните на съезд 32 в направлении AR-256/White Hall. Поверните налево на W. Holland Ave. Поверните направо, чтобы остаться на W. Holland Ave. Поверните направо на Dollarway Rd. Пункт назначения будет справа.
От US-79 N: Двигайтесь на северо-восток по US-79 N в направлении AR-54 E.Поверните налево, чтобы выехать на I-530 N. в сторону Little Rock. Сверните на съезде 36, чтобы выехать на Принстон-Пайк. Продолжайте движение по улице W. Barraque St. Поверните налево на Bryant St. Плавно поверните налево на AR-365 N/Dollarway Rd. Пункт назначения будет слева.
С межштатной автомагистрали 530 N: Двигайтесь на запад по I-530 N. Сверните на съезд 36, чтобы выехать на Princeton Pike. Продолжайте движение по улице W. Barraque St. Поверните налево на Bryant St. Плавно поверните налево на AR-365 N/Dollarway Rd. Пункт назначения будет слева.
Кунц Холл | Колледж общественного здравоохранения
Колледж общественного здравоохранения расположен в Кунц-холле, который был полностью отремонтирован осенью 2011 года.
Здание, которое впервые открылось в 1969 году как Зал языков имени Дитера Кунца, теперь предлагает самые современные помещения:
- 11 исследовательских влажных лабораторий
- Четыре классных комнаты с лекциями Smart Podium и Media Site с записью лекций
- 87 кабинетов преподавателей
- Один студенческий компьютерный класс с полностью интегрированной технологией обучения
- Влажная лаборатория для одного студента с полным комплектом аудиовизуальных средств
- Пять конференц-залов, в том числе два с видеоконференцсвязью
- 100% беспроводной доступ
- Более 5500 квадратных футов студенческих мест
- Общая площадь 60 000 квадратных футов
Результатом этой реконструкции стало место, наполненное светом, поощряющее взаимодействие в общественных местах и отвечающее нашей миссии общественного здравоохранения по обеспечению экологической устойчивости.Приятно каждый день приходить на работу в такое место.
— Бывший декан Стэнли Лемешоу, торжественное открытие Cunz Hall, 2011 г.
Cunz Hall получил серебряный сертификат LEED
Cunz Hall недавно стал первым отремонтированным зданием на территории кампуса с лабораторным помещением, получившим сертификат LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). В 2013 году Совет по экологическому строительству США официально присвоил зданию серебряный сертификат LEED.
Первоначально построенный в 1969 году как Зал языков Дитера Кунца, Кунц был отремонтирован и вновь открыт как ультрасовременное здание осенью 2011 года.Это недавно отремонтированное здание позволило Колледжу общественного здравоохранения впервые находиться под одной крышей.
Признание
Шотландец Эрбе с наградой Green BuckeyesВ 2012 году здание получило статус Green Buckeye, свидетельство штата Огайо о том, что колледж и здание следуют экологически безопасным методам. Колледж первым в штате Огайо получил сертификат Green Buckeye Certification. Процесс сертификации требует, чтобы подразделения штата Огайо соответствовали многочисленным критериям в следующих пяти областях:
- Коммуникация и образование
- Энергоэффективность и энергосбережение
- Переработка и сокращение отходов
- Водосбережение
- Закупки.
Cunz Hall также получил признание в индустрии дизайна:
Победитель, 2011 Почетная награда, Американский институт архитекторов Колумбуса Глава
Финалист, 2011 Премия Джеймса Б. Рекчи за дизайн, Columbus Landmarks Foundation внешние бетонные лестницы.Экологическая устойчивость
Университет штата Огайо признает, что искусственная среда оказывает глубокое влияние на нашу экономику, производительность и окружающую среду.Колледж общественного здравоохранения может продемонстрировать жильцам и всему сообществу, что строительные технологии, наука и операции могут повысить производительность и снизить потребление энергии. Несколько основных моментов Cunz Hall:
Cunz Hall — первое отремонтированное здание с мокрыми лабораториями на территории кампуса, получившее сертификат LEED, а в октябре 2013 года — Серебряный сертификат LEED.
- Внутренние помещения освещаются естественным светом благодаря новым окнам, атриумам и стеклянным стенам.
- В здании сохранилось 90 процентов стен, полов и потолков.
- Усовершенствованное оборудование для обогрева и охлаждения сводит к минимуму углеродный след колледжа и снижает эксплуатационные расходы на электроэнергию на 27 процентов.
- Сантехника с низким расходом и местные растения снижают потребность в питьевой воде на 52%.
- Зеленая крыша и Дождевой сад Кунц Холл сводят к минимуму попадание ливневых вод в реку Олентанги.
- Северный и южный наружные лестничные клетки легко доступны и способствуют физической активности.
Желание Колледжа общественного здравоохранения подавать пример и быть отождествленным со зданием, которое физически демонстрирует миссию и цели обучения и исследований, проводимых в Колледже. Это будет достигнуто за счет улучшения физического состояния и здоровой внутренней среды.
Протоколы охраны труда и техники безопасности на концертах
Добро пожаловать в Orchestra Hall
Оркестр Миннесоты рад приветствовать вас в Orchestra Hall.Поскольку наше сообщество ослабляет усилия по профилактике COVID-19 из-за снижения уровня заболеваемости, мы продолжаем консультироваться с медицинскими экспертами, чтобы снизить любой потенциальный риск, связанный с посещением личного концерта в Orchestra Hall.
Наши протоколы продолжают руководствоваться оптимизмом, осторожностью и ответственностью. Вот краткое изложение нашего недавно пересмотренного плана по постепенному смягчению протоколов COVID-19 в Оркестровом зале:
Вступает в силу 4 апреля
- больше не будет проверять статус вакцинации (и не требовать отрицательного результата теста на COVID-19 для непривитых) для входа в Оркестровый зал.
- Маски можно снять в лобби, чтобы насладиться едой и напитками .
- В целях всеобщей безопасности, а также для снижения риска и обеспечения того, чтобы концерты продолжались в соответствии с планом, в зрительном зале по-прежнему требуются маски .
- Эта политика остается в силе до дальнейшего уведомления.
В течение следующих нескольких месяцев, когда мы упростим наши протоколы, каждый раз, когда вы посещаете Orchestra Hall, вы можете чувствовать себя немного иначе, чем в прошлый раз, но мы обещаем всегда дарить выдающиеся музыкальные впечатления.Пожалуйста, продолжайте проверять это пространство, чтобы увидеть, изменились ли протоколы.
The Minnesota Orchestra Pledge
Мы обязуемся поддерживать самые высокие стандарты безопасности и здоровья в Orchestra Hall для всех наших гостей, музыкантов, сотрудников и волонтеров. Мы обязуемся исследовать, курировать и внедрять наиболее эффективные меры санитарии и физического дистанцирования, доступные для всех в Orchestra Hall. Наконец, мы обязуемся представить четкие, последовательные и своевременные рабочие инструкции и процедуры таким образом, чтобы способствовать эффективной коммуникации.
Наши протоколы безопасности могут быть изменены по мере развития федеральных, государственных и городских рекомендаций. В ответ на быстрое снижение уровня заражения в нашем регионе мы ввели еженедельный процесс принятия решений о наших концертах. Любые изменения в наших протоколах безопасности будут опубликованы на этой странице, а владельцы билетов будут уведомлены по электронной почте с напоминанием о концерте.
Мы понимаем, что даже при соблюдении мер безопасности некоторые гости могут чувствовать себя некомфортно при личном присутствии. Мы стремимся донести до вас живую музыку, где бы вы ни находились.Посетите наш цифровой концертный зал, чтобы узнать о текущих предложениях прямых трансляций и трансляций.
Несмотря на выполнение наших протоколов безопасности, неотъемлемый риск заражения инфекционными заболеваниями все еще существует. Посещая концерт или мероприятие в Orchestra Hall, вы добровольно принимаете на себя все риски, связанные с заражением инфекционными заболеваниями.
Основные меры безопасности, о которых вы должны знать
Стандарты вентиляции
Orchestra Hall в настоящее время соответствует или превосходит все стандарты вентиляции, рекомендованные Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).Система ОВКВ Оркестрового зала оснащена воздушными фильтрами MERV 14, рассчитанными на фильтрацию 20-1,0 микрон.
Бесконтактная продажа билетов
Будут выданы цифровые билеты и доступно бесконтактное сканирование билетов. Для удобства мы рекомендуем использовать приложение MNOrch.
Необходимые маски и маски для всех гостей (всех возрастов, включая детей)
В настоящее время мы требуем ношения масок внутри зрительного зала Оркестрового зала и за кулисами для всех гостей (включая детей всех возрастов).Эта политика остается в силе до дальнейшего уведомления.
Хотя мы настоятельно рекомендуем носить маски в наших вестибюлях, они не требуются.
Служба питания и напитков
Еда и напитки будут доступны для некоторых концертов перед каждым концертом и во время антракта. Мы смягчили правила ношения масок в помещении, чтобы можно было употреблять еду и напитки в лобби. Еда и напитки не допускаются в зрительный зал Оркестрового зала.
Для вашего удобства напитки можно предварительно заказать в антракте (с помощью приложения MNOrch) и забрать в Target Atrium.
Проверка симптомов
Плохое самочувствие? Пожалуйста, оставайтесь дома. Ваши билеты подлежат обмену или возврату. Управляйте своими билетами онлайн или обратитесь за помощью в службу поддержки билетов. Если вам понадобится помощь на концерте, на месте будет техник скорой медицинской помощи.
Усовершенствованные процедуры уборки и минимальные точки соприкосновения
Действуют станции дезинфекции рук и усиленные режимы уборки, включая глубокую уборку между концертами.
-